
|

|
Биография
Живопись
Статьи
Гостевая
Музеи
Ссылки
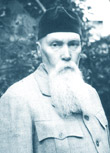
Николай Рерих 1939 год |

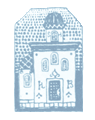

|
Накануне великих событий. Беликов Павел Федорович
Мысль о необходимости специального соглашения по охране просветительных учреждений и памятников культуры впервые возникла у Рериха еще в русско-японскую войну. В начале первой мировой войны Николай Константинович вынес этот вопрос на обсуждение широкой общественности, попытался придать ему государственное значение. Рерих обратился к верховному командованию русской армии и правительствам Франции и США с предложением обеспечить в военное время сохранность культурного достояния народов путем соответствующей договоренности между странами. Действуя с присущей ему энергией, художник ознакомил с проектом многих высокопоставленных лиц, а в 1915 году и самого Николая II, но дело так и не продвинулось. Тем не менее от идеи охраны культурных ценностей при военных столкновениях Рерих не отказался, и проведение ее в жизнь заняло большое место в его дальнейшей общественной деятельности. С начала войны Николай Константинович принимает также участие в работе русского Красного Креста. В 1915 году его выбирают председателем Комиссии художественных мастерских для увечных и раненых воинов. По инициативе Рериха создаются специализированные классы для обучения раненых при школе Общества поощрения художеств. Характерные черты приобретает в военные годы публицистика Николая Константиновича. Он лишь мельком говорит в своих очерках о войне. При всей своей неотвратимости она представляется художнику чуждым явлением. Поэтому его мысли не отвлекаются от основных задач искусства и просвещения. В статье «Слово напутственное», опубликованной в газете «Биржевые ведомости» 14 марта 1916 года, Рерих пишет: «...думаем мы не во имя «вчера», но во имя «завтра», во имя всенародного строительства и творчества. Думаем, зная, что творчество без подвигов невозможно. Прежде всего, имеем ли право говорить об искусстве? В дни великой борьбы? Когда, казалось бы, умолкает искусство? Когда справедливо восстали против глупой роскоши и мотовства... Но подлинное искусство - не глупая роскошь. Молящийся богу правды и красоты - не мот. Искусство - потребность. Искусство - жизнь. Разве храм роскошь? Разве может быть мотовством книга и знания? Конечно, если искусство - великая потребность и высокая жизнь, то, конечно, и сейчас можно говорить об искусстве. Если искусство служит Родине, то, конечно, следует перед ним поклониться. А служение это, конечно, не в служебных изображениях, но в возвеличении вкуса, в росте самопознания, в подъеме духа. В подготовке высоких путей». В военные годы в искусстве Рериха мотивы грозных предзнаменований уступают место фольклорным темам. Иногда художник раскрывает их в связи с традиционными религиозными представлениями о подвижниках, спешащих на помощь людям, как, например, в картинах: «Прокопий праведный отводит каменную тучу от Устюга Великого», «Прокопий праведный за неведомых плавающих молится» (1914), «Пантелеймон целитель», «Три радости» (1916). Иногда решение их носит чисто сказочный характер, как в «Ведунье» (1916), или основывается на пантеизме народного мышления, как в «Велении неба», «Стрелах неба - копьях земли», «Доме духа» (1915). Произведения военных лет не вызывают чувства безысходности. Художник настроен оптимистически и не страшится грозных испытаний. Во время мировой войны заметно возросли усилия Николая Константиновича на поприще народного просвещения. Участились встречи с Горьким и другими антимилитаристски настроенными представителями русской интеллигенции. Напряженная деятельность Николая Константиновича как будто бы свидетельствовала о том, что война не выбила его из проторенной творческой колеи. Но на самом деле это было не так. Война полностью расстроила планы Рериха в важнейшей для него области - в изучении Востока. А она играла решающую роль в биографии Николая Константиновича. Он не мог ограничиться исключительно книжными сведениями о притягательных для него странах и перед самой войной предпринял некоторые шаги по организации научно-художественной экспедиции в Азию. В 1913 году Николай Константинович встретился в Париже с постоянно проживавшим там русским востоковедом В.В.Голубевым - знатоком индонезийского, индийского и тибетского искусства. Голубев только что вернулся из Индии и собирался вновь отправиться туда. Рерих обсуждал с ним планы совместной работы по исследованию восточных стран, а по приезде домой в Петербург написал статью «Индийский путь», заканчивавшуюся словами: «Желаю В.В.Голубеву всякой удачи и жду от него бесконечно многозначительного и радостного... К черным озерам ночью сходятся индийские женщины. Со свечами. Звонят в тонкие колокольчики. Вызывают из воды священных черепах. Их кормят. В ореховую скорлупу свечи вставляют. Пускают по озеру. Ищут судьбу. Гадают. Живет в Индии красота. Заманчив великий Индийский путь». Этот путь давно уже манил Николая Константиновича, и художник усиленно готовился к вступлению на него. Стремясь быть в курсе исследовательской работы отечественных ученых, Рерих принимал участие во многих их начинаниях, способствовавших усилению контактов со странами и народами Востока. Так, например, в целях изучения живых буддийских традиций и привлечения в Петербург редчайших экспонатов буддийского религиозного культа русские востоковеды выдвинули предложение о постройке в столице буддийского храма. В комитет по содействию строительству входил и Николай Константинович. Комитет обычно собирался на квартире сестер Шнейдер - племянниц известного индолога И.П.Минаева. Было бы наивным заподозрить деятельность этого комитета в какой-то пропаганде буддизма. Достаточно сказать, что по инициативе Ф.И.Щербатского комитет обсуждал и вопрос о перевозке из Индии в Россию древнего индуистского храма. Рерих отмечал по этому поводу в «Листах дневника»: «Вместе с мечетью и буддийским храмом такое прекрасное привхождение было бы своевременно и замечательно. Мы схватились за предложение Щербатского». Русские востоковеды, увлеченные наукой, меньше всего считались с догматическими различиями враждебных друг другу религий. Индуистский храм предполагалось разобрать под наблюдением опытного архитектора и из Бомбея морским путем доставить в Петербург. Были уже начаты переговоры с «Добровольным флотом» о льготной перевозке, но с наступлением войны дело, конечно, заглохло. Собирался Николай Константинович посылать в Индию стипендиатов школы Общества поощрения художеств, однако и тут помешала война. Очень хотелось ему организовать в Петербурге индийский музей. Николай Константинович надеялся получить для музея некоторые экспонаты из коллекции В.В.Голубева и обратился в Академию наук, чтобы от ее имени была бы проявлена соответствующая инициатива. далее... | ||||||||
Циклы творчества: Древо преблагое Страж пустыни Розовые горы Меч Гэсера Печоры Знаки Христа
|
Рекомендуем посетить сайты:
"Рерих всегда поражал меня удивительно своеобразным восприятием нашей родной Земли и передачей той горячей любви к ней, которая чувствуется в его картинах. Он поражает нас своей пылкой любовью к Человеку и Человечеству, к его духовному и культурному наследию; он поражает удивительным философским и мудрым содержанием его критериев: разума, любви, мира". (В.Севастьянов)
|
